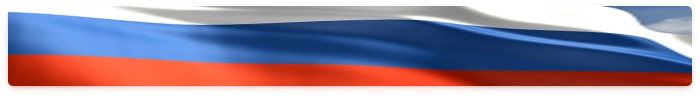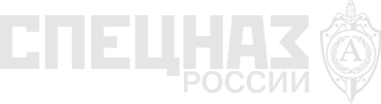РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
ВЕДЬМИН КРУГ
Встреча «русской парижанки» и Маяковского, казалось бы, простая случайность. Ан нет! А всё Лиля! Но на этот раз она перехитрила сама себя. С чего всё началось? С желания контролировать «своих» мужчин. Хорошая жена, как считали Брики, сама подбирает подходящую возлюбленную мужу, а муж рекомендует жене товарищей.
Е. Лавинская с отвращением вспоминала, что «нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность». Всё это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях её супруга. Да, Брики были на редкость слаженной парой.
Femme fatale
1928 год. Франция. Желая отвлечь «ветреного Володика» от встречи в Ницце с русской американкой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт), которая двумя годами ранее родила ему дочь Элен-Патрицию, Лиля делает «ход конём». И вот Эльза помогает устроить знакомство Маяковского с Татьяной Яковлевой — в надежде, что это отвлечёт его от «двух Элли, милых, родных» (как называл их в письмах поэт).
В своих мемуарах Триоле писала, что сделала это для того, чтобы «Володя не скучал в Париже». Верится с трудом, тем более что Маяковский достаточно щедро оплачивал житьё-бытьё Эльзы и тогда ещё просто её спутника Луи Арагона. То есть была прямая выгода задержать его в «весёлом городе».
Однако вместо того, чтобы сходить с Татой пару-тройку раз в ресторан или ещё куда‑нибудь, Владимир влюбился. Высокая (178 сантиметров!), длинноногая, яркая, жизнерадостная, остроумная, Татьяна знала наизусть десятки стихов русских поэтов, в том числе самого Маяковского. Он был в восхищении — «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по‑человечьи. Пять часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселённый, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны…» («Письмо Татьяне Яковлевой»).
И там же победительная кульминация любовного диалога: «Ты не думай, щурясь просто из‑под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекрёсток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счёт нанижем. Я всё равно тебя когда‑нибудь возьму — одну или вдвоём с Парижем».
Почти полтора месяца они провели вместе, и — хотя «коммунизмом у него (у М.) полна голова» — Татьяна думала, что «потом это пройдёт». Сумасшедший от счастья Владимир Владимирович снова, как когда‑то, пишет лирические стихи: «Мне любовь не рай да кущи, мне любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердца выстывший мотор!»
Лиля схватилась за голову. «Адюльтер» возмутил её: «Ты в первый раз меня предал!..» В Париж полетело отчаянное письмо: «Элик! Напиши мне, пожалуйста, что это за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которой он пишет стихи (!!) и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова merde?! Что‑то не верю я в невинность русской шляпницы в Париже! Никому не говори, что я тебя об этом спрашиваю, и напиши обо всём подробно…»
Действительно, «Письмо товарищу Кострову о сущности любви» посвящено «шляпнице». Шляпница? Пожалуй… Выехать в Париж из Пензы ей удалось в 1925 году благодаря дяде, популярному во Франции художнику Александру Яковлеву. Вызов оформил г-н Ситроен, владелец автоконцерна, в обмен на сотрудничество с художником.
Первые месяцы Татьяна лечилась на юге страны от туберкулёза. Вернувшись в Париж, поступила в школу моды, снималась в рекламе… А потом попробовала себя в моделировании шляпок и — преуспела. Клиентки уходили от неё, по словам самой Яковлевой, «уверенные в себе, как призовые лошади». Желая помочь племяннице, дядя вводит её в мир светского Парижа. Она пришлась ко двору и легко стала своей.
«Таник, родной…»
Маяковский поразил Татьяну, подхлестнул, заставил умственно подтянуться, а главное, остро вспомнить Россию. Когда он уехал, Тата ни на минуту не забывала о нём, да это было и невозможно — каждый день она получала телеграммы и письма («Таник родной и любимый, не забывай, что мы совсем родные, и совсем друг другу нужные»).
«Он распорядился, — сообщала Яковлева матери 8 декабря 1928 года, — чтобы каждое воскресенье, утром, мне посылали бы розы до его приезда». Но и этого было ему мало. «Письма такая медленная вещь, — писал Маяковский Татьяне, — а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чём думаешь. Поэтому телеграммлю. Телеграфь, шли письма — ворохи того и другого».
Из беседы с корреспондентом «Известий» Л. Замойским (1972 год, Рим) совершенно очевидно, что Яковлева с Маяковским планировали дальнейшую совместную жизнь. (Интересно, что были и другие поклонники. Она делилась с матерью своими женскими проблемами: «У меня сейчас масса драм. Если бы я даже захотела быть с Маяковским, то что стало бы с Илей, кроме него есть ещё двое. Заколдованный круг!»)
«– Да, мы любили друг друга и собирались обвенчаться. Для этого он должен был приехать за мной в Париж. Нам предстояло прибыть в Москву, чтобы зарегистрировать брак.
— Что же помешало этому?
— На этот раз его не пустили во Францию. Говорят, эта ужасная женщина… написала какую‑то бумагу, что он неблагонадёжен, и его нельзя выпускать».
«Ужасная женщина» — значит, Брик. Точно, она.
Надо заметить, что в литературных кругах отказ в разрешении на выезд был расценен как выражение политического недоверия, что мгновенно сказалось на появлении большого числа недоброжелателей и критиков. Впрочем, их всегда было предостаточно.
Осенью 1929 года Л. Брик прочла письмо Эльзы о том, что Татьяна‑де собирается замуж за виконта дю Плесси. «11 октября вечером нас было несколько человек, — вспоминала Л. Брик, — и мы мирно сидели в столовой Гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую ещё был по инерции влюблён, выходит замуж за какого‑то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и даже расстроить брак… Куда ты? Рано, машина ещё не пришла. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушёл».
В конце письма Триоле просила ничего не говорить Володе. Однако оно было прочитано полностью. Маяковский купился. «Предательство» Таты больно ударило его. Вечером того же дня Лиля с удовлетворением запишет в дневнике: «Письмо Эли про Татьяну. Она, конечно, выходит замуж за французского виконта… Представляю себе Володину ярость и как ему стыдно».
Осип Брик, чтобы Маяковский «не страдал», знакомит его с Вероникой (Норой) Полонской, молодой актрисой МХАТа, женой актера Михаила Яншина — сей факт позволял Брикам надеяться, что связь не перерастёт в фатальный исход для Семьи.
Была предпринята и ещё одна утешительная мера. В Гендриковом устроили репетицию будущего 20‑летнего творческого юбилея. Запросто, по‑домашнему. Были все свои: Мейерхольд, Райх, Брики (куда же без них!), Яншин с Полонской, Асеев, Каменский… Мейерхольд привёз реквизит из ТИМа (Театр имени Мейерхольда), Зинаида Райх всех гримировала. Было весело. Асеев пародировал тех, кто ходит «на всех Маппах, Раппах и прочих задних Лаппах». «Место на стуле посреди столовой, — пишет А. Михайлов, — предоставляется Маяковскому, он садится на стул, повернув его спинкой вперёд. Принимая правила игры, Владимир Владимирович водружает на голову маску козла: «Надо иметь нормальное лицо юбиляра, чтобы соответствовать юбилейному блеянию».
…Татьяна Яковлева до последнего дня не забудет случая с письмом. И, с горькой иронией однажды признается, что даже благодарна за это. Ведь искренне любя Маяковского, она вернулась бы в Москву и наверняка бы сгинула в мясорубке 1930‑х годов.
Через месяц после истории с письмом Тата действительно выйдет замуж за виконта Бертрана дю Плесси, но по её словам этот брак — «бегство от Володи». Бертрана она не любила. И еще ей хотелось семьи. В 1930 году у супругов родилась дочь Фрэнсин (по‑домашнему, Фрося). И Татьяне тогда показалось, что уж теперь‑то у неё всё будет хорошо.
Травля
Вскоре после премьеры «Бани» развернулась кампания по травле Маяковского. Несмотря на то, что Мейерхольд величал Владимира Владимировича «новым Мольером», постановка пьесы, тем не менее, подверглась резкой критике. Михаил Зощенко писал: «Более тяжёлого провала мне не приходилось видеть». Рецензии в газетах были одна убийственнее другой. Поэт писал Тате: «Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня молчаливее».
Со всех сторон неслись крики: это издевательское отношение к нашей действительности! Лица, выведенные в пьесах «Клоп» и «Баня», были узнаваемы. «Все, кто мог, лягал (его) копытом… Все лягали. И друзья, все, кто мог. После премьеры «Бани» рядом с ним не было ни одного человека. Вообще ни одного. Так вообще не бывает», — писал М. Яншин.
Могло сложиться впечатление, что он поощрял роман своей жены. Уж не знаю, что наплели ему доброхоты, затевая интрижку с Норой, но Михаил Михайлович искренне верил в невинный флирт со стороны супруги. Только после гибели Маяковского он узнал, какую роль сыграла обожаемая Нора, а, выяснив, что она сделала аборт — развёлся.
Листаю подшивку журналов «Огонёк» за 1968 год, статьи «Трагедия поэта» А. Колоскова и «Любовь поэта» в соавторстве с В. Воронцовым — публикации, вызвавшие бурное негодование официальных биографов Маяковского. Исследователи собрали некоторые образчики «перлов» своры критиков, которые дружно и слаженно набросились на поэта.
Л. Сосновский: «Довольно Маяковского». Н. Коган: «Он чужд нашей революции». А. Лежнёв: «Холодный ритор и резонер». А. Воронский: «Социализм Маяковского — не наш марксистский социализм, скорее социализм литературной богемы». К. Зелинский: «…к новому пониманию революции можно прийти, уже перешагнув через поэта». Друг Бухарина Илья Эренбург утверждал, что в его стихах «слышатся одни, конечно, перворазрядные барабаны». К. Чуковский упрекал за отсутствие «чувства родины».
Его стихи в одночасье стали «рифмованной лапшой», «кумачёвой халтурой», «перо Маяковского совсем не штык, а просто швабра какая‑то». В травле участвовали Носимович-Чужак, Гросман-Рощин, Горфельд, Авербах, Янковский, Ермилов, Перцев и Дрейлен… За два месяца до трагедии в «Комсомольской правде» С. Кирсанов опубликовал гнусный пасквиль: «Пемзой грызть, бензином кисть облить, чтобы все рукопожатия его со своей ладони соскоблить». О, как!
6 февраля 1930‑го года, Маяковский окончательно понимает, что «выходов нет…, мелкие литературные группировки изжили себя». Он порывает с ЛЕФом и пишет заявление о вступлении в РАПП (с которым, будучи лидером ЛЕФа, вёл непримиримую войну) — что привело её руководителей в замешательство. Поражены были все: и бывшие товарищи, и потенциальные соратники. Ю. Лебединский не без юмора признавался, что «мы опасались, как бы не пострадала наша утлая посудина, от того, что на неё вступил такой слон»!
Отказать не посмели — имя Поэта поднимало престиж РАППа. Однако шаг Маяковского не изменил отношения к нему критиков «вроде Ермилова», которые всегда держали нос по ветру. Коллеги бойкотировали его этапную выставку «20 лет работы», открывшуюся 1 февраля в Доме Писателя. Не пришел и не один из высокопоставленных чиновников, хотя приглашены были все, включая Сталина.
Л. Брик в дневниковых записях от 29 декабря 1929 года фиксирует: «В. с утра до вечера в бегах. Полночи клеит с Зиной Свешниковой выставочные альбомы». Дальше она упоминает о каких‑то мальчиках, которые придумали дать над витриной с газетами, где печатались стихи поэта, надпись: «Маяковский непонятен массам». Печально, что какая‑то Свешникова, которая никогда не заявляла себя в числе друзей, какие‑то оставшиеся неизвестными «мальчики» помогали устраивать выставку (поэт придавал ей важное значение), а не близкие ему люди.
Для Лили, как видно из её воспоминаний, выставка была всего лишь «затеей». А Осип вообще договорился! Мол, Маяковский устроил её, чтобы добиться «признания». Какого, зачем? Сам же Поэт хотел «показать, что писатель-революционер — не отщепенец, стишки которого записываются в книжку и лежат на полке и пропыливаются», но человек — участник повседневной, будничной жизни и строительства социализма. Так‑то, господа хорошие!
«Грузинская Вера Холодная», красавица Нато Вачнадзе (Наталья Георгиевна Андроникашвили) вспоминала: «Вечер начался вступительным словом очень юного комсомольца, честно старавшегося объяснить значение поэзии Маяковского для народа. И это — всё. Больше не было ни докладов, ни выступлений. Потом вышел сам Маяковский. Он сказал: «Ну что ж, товарищи, как видно, сегодня не такой день, чтоб я мог говорить вам красные слова. Единственное, что я могу сделать, это прочесть свою новую поэму — «Во весь голос». И он начал читать её сурово и торжественно… Зал был наполовину пуст. Группами и в одиночку располагалась в нём молодёжь, случайные люди… В зале нет Кирсанова, нет Асеева, нет даже Кручёных. Где‑то позади сидит один Осип Брик».
В дневнике Лиля заметила: «В. переутомлён. Говорил страшно устало. Кое-кто выступил, потом В. прочёл вступление в новую поэму — впечатление произвело очень большое, хотя читал по бумажке и через силу».
Имелся ряд свидетельств, что в последние месяцы жизни Маяковский чувствовал какую‑то угрозу. Должно быть, он понимал, что и травля — элемент в его жизни не случайный. Е. Лавинская рассказывала, что «в его доме стали появляться Воловичи… люди, которые наросли на ЛЕФ, они тормозили его творчество, выслеживали его…»
И в такой тяжелый для Маяковского момент Лиля и Ося отбывают в Берлин и Лондон, якобы «осматривать культурные ценности»! Похоже, эта поездка была тщательно спланирована, супругов просто на время убрали из столицы. После отъезда Бриков в квартиру Семьи переселился чекист Лев Эльберт (Сноб), старый знакомец Лили. Видимо, чтобы скрасить Маяковскому одиночество, а заодно и присмотреть за поэтом.
Перед отъездом Л. Брик нанесла визит Маяковским — матери и сёстрам, жаловалась: «Володя стал невыносим. Я так устала! И мы с Осей решили съездить в Лондон к маме». В последний раз Поэт и Лиля виделись 18 февраля 1930 года. Прощального письма Маяковский ей не оставил.
Чёрная метка
К изумлению Владимира Владимировича, ему был передан с Лубянки некий «подарочек» — огнестрельное оружие. Удивлённый поэт отослал его обратно. Но пистолет ему настойчиво возвратили с мотивировкой, что, дескать, «так положено». Именно этот маузер калибра 7, 65 № 312045 найдут рядом с телом Маяковского. Кстати, в папке уголовного дела вместо него, занесённого в милицейский протокол, журналист Валентин Скорятин обнаружил другое оружие — браунинг с № 268992.
…Как‑то зимой 1930 года, ночью, после сдачи номера главный редактор «Известий» Иван Гронский встретил Маяковского на Тверском бульваре. Пошли гулять, было тихо, падал мягкий снежок. «Старые большевики, — сказал Гронский, — к Вам, Владимир Владимирович, относятся отрицательно. Ваши расхождения с партией в философски-этических вопросах более глубокие, чем Вы думаете».
Маяковский вскипел:
— Почему?! Ведь я же работаю на Советскую власть и на революцию как ломовая лошадь!
Гронский усмехнулся.
— Да просто Вы, Владимир Владимирович, футурист и формалист, а партия — она стоит на позициях реализма, с каковых ни один художественно грамотный большевик никогда не сходил.
Помолчав, Маяковский задумчиво ответил:
— Может, Вы кое в чём и правы.
Потом разговор плавно перешёл на личное. Маяковский, если верить Гронскому, пожаловался.
— На Серёжку (имея в виду Есенина) бабы вешались, а от меня бежали и бегут. Я не понимаю почему. Брики? Это не семья.
Гронский видел, что поэт расстроен… Отдохнуть бы ему, развеяться, уехать. Но слушок прошёл, что не выпускают его, за какие-такие грехи?.. Исписался? Бабы? Деньги? Этого Гронский не знал, а спросить не счёл нужным.
После трагедии А. А. Ахматова мудро заметит, что «когда так много женщин, из‑за несчастной любви не стреляются».
«Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы — писал в донесении на имя руководителя секретного отдела ОГПУ агент по кличке Арбузов после гибели Маяковского. — Разговоры в литературно-художественных кругах значительны. Романтическая подкладка совершенно откидывается. Говорят, здесь более серьёзная и глубокая причина. В Маяковском перелом произошёл уже давно, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал».
В подтверждение Арбузов приводит цитаты: «роясь в нынешнем окаменевшем г…», «я себя смирял, становясь на горло собственной песне», «мне агитпроп в зубах навяз» и т. д. И ещё. «И если в конце стихотворения («Во весь голос») он опять вдруг становится революционным поэтом, то эти определённо фальшивые строки вызваны паническим ужасом перед той мыслью, что советская власть сотрёт память о нём из умов современников».
Маяковский, надо заметить, догадывался, что верхам не по душе его сатира, нацеленная на «борьбу с бюрократизмом и чисткой соваппарата». Не по душе, несмотря на выдвинутые в «Правде» лозунги. В той же газете от 3 апреля 1930‑го была напечатана статься И. Сталина, в которой, в частности, говорилось: «Дон-Кихот тоже ведь воображал, что наступает на врагов, идя в атаку на мельницу. Однако известно, что расшиб себе лоб на этом, с позволения сказать, направлении. Видимо, лавры Дон-Кихота не дают спать нашим «левым загибщикам». Не дай Бог услышать подобную критику, да ещё от первого лица государства.
Конечно, прав Гронский — Маяковский был весь «на нервах», даже частенько производил впечатление «неадеквата», однако стреляться он не собирался. Связь с Полонской, даже деньги (!), внесённые 4 апреля за кооперативную квартиру в Лаврушинском переулке (куда, кстати, после его смерти переехали Брики) — всё, абсолютно всё говорит об этом! И ещё парижские ботинки…
Лаковые, подкованные сталью под каблуком и на носках. Владимир Владимирович любил красивые вещи (это нам, наивным детям социализма, внушали, что поэту не нужно было ничего, кроме «свежевымытой сорочки»). И купил сразу три (!) пары. «Лежал он в красном гробу в первой паре. Не собирался он умирать, заказывая себе ботинки на всю жизнь…», — вспоминал Виктор Шкловский в «Гамбургском счёте». В этих «хорошо придуманных» ботинках Маяковский собирался идти ещё далеко-далеко…
«Кто, я застрелился? Такое загнут!»
14 апреля 1930 года в 10 часов 15 минут утра Маяковский, согласно официальной версии, покончил с собой, выстрелив в сердце. Нарком Луначарский, когда ему позвонили с известием о смерти поэта, не поверил, решил даже, что это чья‑то дурацкая, первоапрельская (по старому стилю) шутка.
Последним, кто видел Маяковского живым, была Нора Полонская. Незадолго перед тем, как принято считать, он сделал ей предложение. Не странное ли желание для человека, желающего свести счёты с жизнью?..
Накануне вечером поэт отправился в гости к Валентину Катаеву. Присутствовала и Полонская с мужем. Разошлись поздно, в третьем часу. В понедельник, 14‑го, в половине девятого, Маяковский появился у Норы. Они поехали на такси к нему на Лубянку. Полонская предупредила: у неё мало времени и к 10 часам 30 минутам она должна быть в театре. «Маяковский хотел, — утверждала Нора, — чтобы я была счастлива, но с ним и только с ним. Или ни с кем больше. Никак он не заботился о сохранении приличий, о сохранении моего семейного быта. Наоборот, он хотел всё взорвать, разгромить, перевернуть, изничтожить…»
Разговор был прерван приходом книгоноши. Стучал дважды. Маяковский приоткрыл дверь, не пуская его в комнату, и скороговоркой произнёс: «Товарищ, бросьте книги, ко мне не заходите, а деньги получите в соседней комнате». Интересно, что после того, как первый раз не открыли, книгоноша наклонился и посмотрел в щель. Заметил любопытную картину: поэт стоял перед дамой на коленях, а она сидела на диване. То есть Локтев, как свидетель, подтвердил показания Полонской (в некоей части).
Кое-как успокоив поэта и взяв деньги на такси, Полонская удалилась. «Я вышла, — продолжала она рассказ о том страшном дне. — Прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел… Я закричала. Заметалась по коридору… Вероятно, я вошла через мгновение. В комнате ещё стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на полу, раскинув руки…»
Практически тут же появились официальные лица — будто дожидались за дверью кровавого финала. Сестра Маяковского, Людмила Владимировна, писала: «Когда сбегала с лестницы (?!) П. (Полонская) и раздался выстрел, то тут же сразу оказались Агран. (Агранов), Третьяк. (Третьяков), Кольцов. Они вошли и никого не пускали в комнату».
К вечеру приехал скульптор К. Луцкий, снявший посмертную маску. 22 июня 1989 года в программе «Пятое колесо» художник А. Давыдов, показывая ее телезрителям, заметил, что у покойного был сломан нос! Значит, Маяковский упал лицом вниз, а не на спину (как бывает при самоубийстве)?!
Н. Асеев, он же «Соратник» (прозвище получил за преданность поэту) вспоминал, что когда приехал на квартиру в день гибели Маяковского, то его встретил Агранов, отвёл в другую комнату и прочёл предсмертное письмо, не дав его в руки. Письмо, кстати, написано за два (!) дня до случившегося.
Документ поразительный.
Всем
В том что умираю, не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.
Мама сестры и товарищи простите — это не способ (другим не советую) но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня.
Товарищ правительство
моя семья — это Лиля Брик, Мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.
Если ты (переправлено с «вы») устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят —
«инцидент исперчен»,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
Счастливо оставаться
Владимир Маяковский.
12 / IV 30 г.
Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным
Сериозно — ничего не поделаешь.
Привет.
Ермилову скажите что жаль снял лозунг надо бы доругаться
В. М.
В столе у меня 2.000 руб внесите в налог.
Остальное получите с Гиза
В. М
Три дня гроб с телом был выставлен на Воровского, 52 (где теперь ЦДЛ). Толпа стояла вдоль всей улицы, многие плакали. Гронский написал и зачитал Сталину по телефону статью о Маяковском. Тот одобрил, и она вышла в «Известиях» на другой день после гибели поэта.
В Берлин полетела телеграмма: «Сегодня утром Володя покончил с собой. Лёва. Яша». По приезде домой Лиля первым делом поинтересовалась, из какого же пистолета он застрелился. «Хорошо, что не из револьверчика. Как бы некрасиво получилось — большой поэт и из маленького пистолета».
«15 апреля утром, когда мы ещё спали на антресолях у себя на улице Кампань-Премьер, нас разбудил стук в дверь, — вспоминал Арагон. — Кто‑то крикнул с лестничной площадки два слова по‑русски. Я не понял, что он сказал, но Эльза вскрикнула так страшно, что я соскочил с кровати, а она твердила мне одно слово: «Умер, умер, умер…» Не нужно было говорить, о ком идёт речь».
«Любимый Элик! — писала сестре Лиля. — Я знаю совершенно точно, как это случилось, но для того, чтобы понять это, надо знать Володю так, как знала его я. Если бы я или Ося были в Москве, Володя был бы жив… Стрелялся Володя как игрок, из совершенно нового, ни разу не стрелянного револьвера. Обойму вынул, оставил одну только пулю в дуле, а это на 50 % осечка. Такая осечка уже была 13 лет назад в Питере. Он во второй раз испытывал судьбу. Застрелился он при Норе, но её можно винить как апельсинную корку, о которую поскользнулся, упал и разбился насмерть».
Вот даже как! Немедленно и Лиля, и Эльза стали говорить на все лады — в выступлениях, воспоминаниях, письмах — что «Володя был патологически склонен к самоубийству». К. Зелинский вспоминал, как горячо убеждал его Осип: «Перечитайте его стихи, и вы убедитесь, как часто он говорит… о своём неизбежном самоубийстве».
Лиля настоятельно посоветовала Полонской не ходить на похороны, дабы не отравлять последних минут прощания его родным. А позже доверительно порекомендовала не претендовать на наследство — поскольку та даже не была на похоронах.
…Гроб с телом поэта везли в крематорий на грузовике, обитом металлом, под огромным венком из чудовищных болтов и гаек, молотков и маховиков (идея его знаменитого друга — художника Татлина). На ленте надпись: «Железному поэту — железный венок!». И ни одного живого листочка!
Первый день после похорон. Чай у Бриков. «Всё тихо, спокойно, уютно, — отмечает Е. Лавинская. — Брик продолжил прерванный нашим приходом рассказ о загранице. Я сидела истуканом. Всё, что угодно, но такого спокойствия я не ожидала!» Впрочем, чему удивляться? Лиля сама признавалась, что «когда не стало Маяковского — не стало Маяковского, а когда умер Брик — умерла я».
Фальшивка. Убийство
Надобно заметить, что независимое журналистское расследование В. Скорятина привело его к ошеломляющим выводам. К сожалению, опубликовать книгу он не успел. Однако факты, собранные им — вещь чрезвычайно упрямая. Валентин Иванович проверил архивные документы и выяснил, что Маяковский не писал заявления о получении визы и не получал никакого отказа.
Оказывается, что никто не слышал, чтобы Полонская говорила о револьвере в руках поэта, когда она выбегала из комнаты. Откуда тогда взялось оружие?..
Протокол допроса книгоноши десятилетиями хранился в секрете. Он видел, как Маяковский стоял на коленях. Журналист делает вывод, что выстрел был сделан именно в тот момент, т. е. выстрел сделан сверху вниз, поскольку пуля вошла около сердца, а прощупывалась около последних рёбер внизу спины.
Агранов сразу взял следствие в свои руки. У него оказалась карточка, которую видела Е. Лавинская: «Это была фотография Маяковского, распростёртого, как распятого на полу, с раскинутыми руками и ногами и широко открытым в отчаянном крике ртом… Мне объяснили: «Засняли сразу, когда вошли в комнату Агранов, Третьяков и Кольцов. Больше эту фотографию я никогда не видела». Скорятин предполагал, что снимок был сделан до прибытия следственной группы.
Предсмертное письмо, как и многие другие вещественные доказательства забрал тот же Агранов. Однако по газетам, перепечатавшим его, читателям не видно, что оригинал написан карандашом! Было известно, что заполучить ручку поэта даже на короткое время было практически невозможно. Орудие труда, как «коня, шашку и жену» не доверял никому.
Анализируя последние дни поэта, В. Скорятин догадался — убийство готовилось 12‑го апреля, но почему‑то сорвалось. Вот и объяснение даты предсмертного письма. Поразительно, но факт: даже члены правительства, обсуждая раздел наследства, руководствовались не подлинником, а газетной перепечаткой!
Исследователь разыскал заметки Сергея Эйзенштейна, который утверждал, что «Маяковский никогда ничего подобного не писал!» И добавлял: «Его надо было убрать. И его убрали…» Экспертиза рубашки Маяковского, которая осталась у Лили, не проводилась. Брик сдала её в музей только двадцать четыре года спустя!
Секретный архив. «Уголовное дело № 02‑29, 1930 года, народного следователя уч. Баум. района г. Москвы И. Сырцова о самоубийстве В. В. Маяковского».
«Расписка. Мною получены от П. М. О., пр-ра т. Герчиковой обнаруженные в комнате Владимира Владимировича Маяковского деньги в сумме 2113 руб. 82 коп. и 2 золотых кольца. Две тысячи сто тринадцать рублей 82 коп. и 2 зол. кольца получила Л. Брик. 21.4.30».
С какой стати?!
«Лиля Юрьевна, — объясняет В. Скорятин, — не состоявшая ни в каких официальных родственных отношениях с Маяковским, ни с того ни с сего получает деньги и вещи, найденные в его комнате, а затем и всё его наследство — и в материальных ценностях, и в бесценных архивах, являющихся, по существу, народным достоянием. Особый цинизм этой ситуации вот в чём. В письме сестры поэта Ольги Владимировны, отправленном родственникам несколько дней спустя после трагедии, сказано: «12‑го я с ним говорила по телефону… Володя мне наказал прийти к нему в понедельник 14‑го, и, уходя из дома утром, я сказала, что со службы зайду к Володе. Этот разговор 12‑го числа был последний». То есть Маяковский приготовил некий конверт с деньгами как обычную помощь семье. И не думал ни о каком самоубийстве, разве он позвал бы тогда сестру к себе? Нет, конечно.
Идём дальше. Как обнаружил В. Скорятин, Брики были агентами ЧК: № 15073 — Лиля, 25541 — Осип. Он рассуждал так: понятно, кто помог Брикам уехать в феврале 1930‑го за границу, чтобы оставить поэта в одиночестве. Понятно, зачем Л. Брик организует в 1935 году передачу своего письма Сталину о том, что работы Маяковского незаслуженно предаются забвению. Резолюция Вождя должна была заставить издателей выпускать сочинения огромными тиражами — ведь Лиля основная наследница. Вывод? Брики не могли не знать, что Маяковский будет убит. И его убили.
Формат статьи не позволяет рассказать о дальнейшей судьбе Лили, «которой здорово надоело жить, но ещё страшней умирать»; ни о литературных «ожерельях Триоле», ни о Луи Арагоне — его бесподобных стихах и поразительных признаниях на пороге смерти; ни о Татьяне Яковлевой и её «втором рождении». Несмотря на яркие собственные судьбы, они навсегда связаны с именем Поэта.
Послесловие Гумилёва
Осенью двадцатого года Маяковский приехал удивить Петербург и выступить в Доме Искусств. «Огромный, с круглой, коротко-остриженной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта, — вспоминала Ирина Одоевцева. — Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по‑актерски, хотя — чего актеры никогда не делали — не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его — голос митингового трибуна, — то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по‑голубиному и журчал, как лесной ручеек».
Протянув в театральном жесте громадные руки, Маяковский страстно предлагал:
Хотите, буду от мяса бешеным
И, как небо, меняясь в тонах,
Хотите, стану невыразимо нежным, —
Не мужчина, а облако в штанах?..
В ответ на эти необычайные предложения зал зашёлся от восторга. Казалось, всё грохотало: стулья, люстры, потолок. «Бис, бис, бис!» — неслось отовсюду. Гумилёв, сидевший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду впавших в неистовство слушательниц. Когда Одоевцева пришла в артистическую, Гумилёв все ещё находился там. Брезгливо морщась, он проговорил:
— Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас… и вас разобрало? — и, не дожидаясь ответа, добавил, прислушиваясь к неистовым крикам и аплодисментам: — Коллективная истерика какая‑то… Идем домой. Вам совсем незачем знакомиться с ним.
Всю дорогу Гумилёв говорил о поэме «Кристабель» Кольриджа, переведенной Г. Ивановым для «Всемирной Литературы». И вдруг, уже пересекая Невский проспект, произнёс:
— А ведь Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии. То, что он делает — антипоэзия. Жаль, очень жаль…
Вскоре Поэт Серебряного века будет уничтожен «милым Яней», и он же, Яков Агранов, сыграет зловещую роль в гибели Владимира Маяковского.