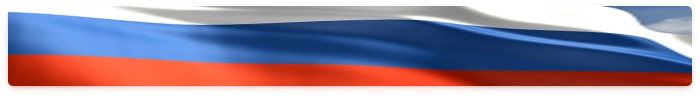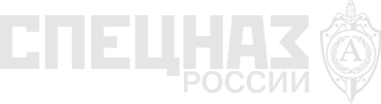РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
ПОЭТ РОССiИ
Около четырёх часов утра секретарь наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского был разбужен настойчивым звонком в дверь. Сонный, он пошёл открывать и услышал женский голос, умолявший впустить.
Известная всем членам партии большевиков бывшая жена Горького, Мария Фёдоровна Андреева, просила позвонить «Ильичу». «Медлить нельзя. Надо немедленно спасать Гумилёва. Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую входил и Гумилёв. Только Ленин может отменить его расстрел».
Андреева была так взволнована и так настойчива, что Луначарский согласился позвонить главе правительства даже в такое неурочное время.
Гумилёв был арестован в разгар Красного террора, по «делу Таганцева». На документах того времени нет ни подписи, ни фамилии оперуполномоченного ВЧК — только должность. В деле Гумилёва, на листе № 104 стоит пометка: «верно». И приписка, неотвратимая как смерть: «Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу».
…Той ночью или, если угодно, ранним утром, когда Ленин, наконец, снял трубку, Луначарский рассказал всё, о чём сообщила взволнованная Андреева. Помолчав, Ленин произнёс: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас», — и повесил трубку.
«Дело Таганцева»
Владимир Таганцев был сыном Николая Степановича Таганцева — выдающегося учёного-криминалиста, правоведа, создателя науки государственного права. Его отец являлся сенатором, членом Государственного совета, неоднократно выбирался руководителем «Литературного фонда» — общества, которое помогало писателям и учёным дореволюционной Россiи.
Был ли заговор? Не был? Не вызывает сомнений, что красному диктатору Петрограда Зиновьеву необходимо было запугать оставшуюся в городе интеллигенцию, так как становилось ясно, что её основная часть, несмотря на репрессии, за новой властью не пошла. И, как по заказу, появляется «белогвардейский заговор».
Итак…, в поле зрения питерских чекистов попадает профессор географии Владимир Таганцев, который на свои личные средства помогал интеллигентам бежать за границу от ужасов советской России. 3 августа 1921 года в Петрограде при попытке ареста чекисты смертельно ранили подполковника В. Г. Шведова, а до этого в ночь с 30 на 31 мая при переходе финской границы был убит лейтенант артиллерии Ю. П. Герман. Эти и другие факты, как утверждается, свели воедино, представив звеньями одной цепи.
Так полагают те, кто видит в этом деле заведомую провокацию. По их мнению, чекисты нуждались в громком показательном процессе. С этой целью они превратили заключённого Таганцева, взятого за «хранение крупной суммы денег», и двух убитых офицеров в «руководителей заговора». Парижским шефом ПБО был «назначен» генерал Владимиров, чьё письмо было весьма удачно перехвачено.
…Таганцев, арестованный 31 мая, молчал полтора месяца. Опытный в делах такого рода чекист Яков Агранов подсунул упрямому профессору расписку: «Я, уполномоченный ВЧК, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро закончить следственное дело, и после окончания передать в гласный суд. Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания».
И ещё доверчивый Владимир Николаевич подписал соглашение о сознательных показаниях, «не утаивая ничего, ни одного лица, причастного к нашей группе». Всё это, как он наивно полагал, делается «для облегчения участи участников процесса». Запутанный ловким и велеречивым Яковом Сауловичем, Таганцев впоследствии подписывает все бумаги, которые ему дают на допросах.
Обвиняемый Таганцев давал письменные показания: «Гумилёв утверждает, что с ним связана группа интеллигентов, которой он сможет распоряжаться и, в случае выступления, согласна выйти на улицу. Мы решили тогда предварительно проверить надежность Гумилёва…
Шведов разыскал на Преображенской улице поэта Гумилёва и предложил ему помочь нам, если представится надобность в составлении прокламаций. Гумилёв согласился, что оставляет за собой право отказаться от тем, не отвечающих его далеко не правым взглядам… Через несколько дней пал Кронштадт. Стороной я услышал, что Гумилёв весьма далеко отходит от контрреволюционных взглядов. Я к нему больше не обращался».
Если внимательно прочитать показания Таганцева, то складывается впечатление, что он всячески старался выгородить Поэта — сообщил, что Гумилёв составил негодную для агитации листовку, а сам Николай Степанович «близок к советской ориентации».
«И ведь будет же, будет Россия!»
Гумилёв, как говорят, сам себе подписал смертный приговор, вернувшись в 1918 году из Европы, где он находился в составе экспедиционного корпуса. Дескать, только самоубийца возвратился бы тогда в «красную» Россию, не обладая соответствующими поручителями в среде новой власти.

Русский поэт-офицер мыслил другими категориями. Он ехал к себе домой и был готов к любым испытаниям. Тяга к старому укладу, порядку, верность законам дворянской чести и служения Отечеству всегда отличала Николая Степановича, — и он вернулся. Не мог не вернуться!
Хотя Гумилёв не принял большевизма, но во многом понимал глубинные причины, приведшие к катастрофе, и надеялся, что Россiя выйдет на новый и, в то же время, исконный и ясный путь. А потому полагал, что своей стране нужно служить в любой ситуации. Эмиграцию он считал позором. «И ведь будет же, будет Россiя свободная, могучая, счастливая — только мы не увидим», — добавлял он с горечью.
Его арестовали в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. По роковому стечению обстоятельств, тогда же был взят под стражу и Николай Пунин, написавшего ещё в 1918 году донос на Поэта в «Красной газете». Приходили ли ему в голову мысли о неотвратимости возмездия, хотя бы в конце жизни, оборвавшейся в лагере?..
Пунин, занимавший должность заместителя народного комиссара просвещения РСФСР, в первом номере газеты «Искусство коммуны» тиснул статью под названием «Попытка реставрации»: «…Мы вышли из-под многолетнего гнёта… развратной буржуазной эстетики… Я чувствовал себя бодрым потому, что перестали… читаться некоторые поэты (Гумилёв, например).
И вдруг я встречаюсь с ним снова в «советских кругах»… этому воскрешению я в конечном итоге не удивлён. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь, нет-нет, да и подымет свою битую голову».
То было время, когда чекист Лацис давал наставления о смысле Красного террора: «Не ищите данных в следственном материале, а спрашивайте, к какому классу и воспитанию принадлежит обвиняемый». Так что донос был с прицелом.
…На первом же допросе Гумилёв назвал себя дворянином, хотя по законам Российской Империи таковым не считался, так как дворянство передавалось по отцу. Тогда как его отец, Степан Яковлевич, заслужил личное, а не потомственное дворянство.

Человек исключительной честности и прямоты, Гумилёв не утаил на допросах своих политических взглядов. Он открыто признавался в своем монархизме, считая, что для большевиков главное — определённость. Он всегда был «рыцарем по духу и образу жизни» и, считая себя представителем свергнутого класса, не скрывал, что обещал участникам заговора поддержку в случае их выступления.
«Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы», — успокаивал Гумилёв Анну Ахматову, находясь в 7-й камере Дома предварительного заключения, помещавшегося на Шпалерной, 25. Он был спокоен при аресте и при допросах, так же спокоен, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности «своему Государю» в лицо матросам Балтийского флота.
Приглашение на казнь
Дело поручили вести следователю Якобсону. По сути ничего Якобсон на Гумилёва так и не смог собрать. В заключении по делу следователь, постоянно ошибочно указывавший отчество Поэта, пишет: «…В своём первом показании гр. Гумилёв совершенно отрицал его причастность к контрреволюционной организации и на все заданные вопросы отвечал отрицательно.
Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилёва Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана. На основании изложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилёву Н. Ст. как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел».
Что нам остается — серьёзно воспринимать этот протокол и слова учеников Поэта: Ирины Одоевцевой и Георгия Иванова? А ведь они сообщают о том, что Гумилёв ходил куда-то в простой одежде, ведя агитацию среди рабочих, писал и прятал дома прокламации.
В ноябре 1921 года в Финляндию на лодке с сыновьями бежал филолог-германист, профессор Петроградского университета и член Коллегии экспертов издательства «Всемирная литература» профессор Борис Сильверсван, входивший в ячейку Гумилёва.
«Гумилёв несомненно принимал участие в Таганцевском заговоре, и даже играл там видную роль, — сообщил он в письме Амфитеатрову, датированном 1931 годом. — В конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причём ему нужно было сперва моё принципиальное согласие, каковое я немедленно от всей души ему дал, а за этим должно было последовать моё фактическое вступление в организацию. Предполагалось, между прочим, по-видимому, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией.
Он сообщил мне тогда, что организация состоит из пятёрок, членов каждой пятёрки знает только её глава, а эти главы пятёрок известны самому Таганцеву. Он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги Красной армии. Я говорил ему тогда же, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнут пыткам и может начать выдавать. На это Гумилёв ответил, что Таганцев никого не выдаст и что, наоборот, теперь-то и нужно действовать. Из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и, вообще, ведал пропагандой в Красной армии».
Другим членом ячейки Гумилёва был поэт Георгий Иванов. Но он долго молчал, чтобы не подвергать смертельной опасности людей, оставшихся в советской России, и впервые позволил откровенность в частном письме, направленном в 1952 году Вере Александровой — главному редактору Издательства имени Чехова в Нью-Йорке:
«Я единственный в эмиграции… близкий Гумилёву человек, мы были друзьями, начиная с 1912 года. После же его возвращения в 1918 году из Лондона в советскую Россию вплоть до его расстрела в 21-м году мы были неразлучны, редкий день, когда не встречались, — я был и участником злосчастного и дурацкого Таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если меня не арестовали, то только потому, что я был в десятке Гумилёва». Характерное признание!

Первое сообщение о расстрелах по делу Таганцева было опубликовано 24 июня 1921 года в газете «Известия ВЦИК». Стало быть, до 3 августа у Николая Степановича было время бежать за границу, но он не сделал этого — не посчитал возможным!
Говоря о взглядах Гумилёва, нельзя пройти мимо показаний, данных им 23 августа 1921 года: «Никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путём установления между ними связей, я не знаю и поэтому назвать не могу. Чувствую себя виноватым по отношению к существующей в Россiи власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград…»
Хорошо знавшему его Немировичу-Данченко он говорил, что «…на переворот в Россiи — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит её и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придёт. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нём предупреждена. И готовиться к нему глупо. Всё это вода на их мельницу».
Однако к весне 1921 года ситуация в стране кардинально изменилась. Хотя большевики и победили, почти вся страна оказалась в огне крестьянских Вандей, массовых рабочих волнений и беспорядков. В этих условиях как раз и планировалось восстание — одновременно в Петрограде и грозной цитадели Балтийского военно-морского флота.
Уже после реабилитации Таганцева стал известен ряд документов белой эмиграции, имеющих прямое отношение к его делу. Один из них — доклад полковника Э. Эльвенгрена. Согласно этому источнику подпольная организация готовила восстание в Кронштадте, но планировала его на конец апреля 1921 года.
«Организация эта, — сообщал агент Борису Савинкову, — объединяла (или вернее, координировала) действия многочисленных (мне известно десять), совершенно отдельных самостоятельных групп (организаций), которые, каждая сама по себе, готовились к перевороту».
Другой документ — письмо бывшего члена Государственного совета, товарища министра просвещения в 1917 году Гримма, адресованное барону Врангелю и датированное 4 октября 1921 года.
«…Был арестован Таганцев, игравший в последние годы видную роль в уцелевших в Петрограде активистских организациях и связанный, между прочим, с артиллерийским офицером Германом, который служил в финском Генеральном штабе курьером… Герман был убит при переходе финской границы, причём у него были найдены письма и прокламации… и подполковник Шведов, и лейтенант Лебедев попали в Петрограде в засаду и погибли… оба должны были быть не просто курьерами, а руководителями, и заменить их сейчас некем…»
Далее Гримм писал, что появившееся в газетах сообщение о раскрытии заговора «всё же устанавливает ряд фактов, знакомство с которыми свидетельствует о том, что некоторые из участников заговора дали весьма полные показания и раскрыли многие подробности… в списке расстрелянных значится целый ряд лиц, несомненно принадлежавших к существовавшим в Петрограде активистским организациям».
В красной рубашке
За Гумилёва хлопотали литераторы Петербурга, интеллигенты «старой закваски», писали письма деятели культуры — в защиту Поэта, перечисляя в прошениях его звания и степень значения для Русской литературы. Одно из них подписано Максимом Горьким, который к тому времени с отвращением отшатнулся от новых якобинцев.
О том, почему Гумилёва именно убили, а не заключили в тюрьму, существуют разные версии. Одна из них, романтическая, повествует о мести бывшей подруги Гумилёва — Ларисы Рейснер. Её муж, революционный матрос Фёдор Раскольников, был в то время комиссаром Балтфлота. Другая версия: Поэта арестовали по прямому указанию Григория Зиновьева, который, дескать, болезненно воспринял одно из стихотворений на свой счёт.
Все это, конечно, лирика. Глобальная задача Зиновьева состояла в том, чтобы запугать оставшуюся в Питере интеллигенцию, раз и навсегда отбив волю к какому-либо сопротивлению. И Гумилёв, как ярчайший её представитель, монархист и боевой офицер, один из самых значимых литературных авторитетов, — прямо-таки идеально подходил на роль знаковой жертвы.

Судя по всему, в Петрограде действительно существовала антибольшевистская организация под руководством В. Н. Таганцева, В. Г. Шведова и Ю. П. Германа, имевшая постоянные связи с белой эмиграцией и финским Генеральным штабом. В городе одновременно действовали другие группы и кружки схожей направленности.
Подполье намеревалось в конце апреля 1921 года организовать восстание в Кронштадте и выступление в Петрограде, но план был нарушен стихийными волнениями рабочих, вспыхнувшие в феврале, и столь же спонтанным восстанием красных балтийских моряков. Вероятно, термин «Петроградская боевая организация» родился в ходе следствия, чтобы объединить все раскрытые группы и кружки.
Факт заключения договора между Аграновым и Таганцевым остаётся не до конца прояснённым, однако есть основания предполагать, что именно обещание не применять смертную казнь и вызвало признательные показания.
По своему масштабу Таганцевский заговор не был делом значительным. Другое дело — его влияние на тогдашнее общество, разговоры о нём, и вот это воздействие было весьма и весьма сильным. Яков Агранов объяснил жестокость, проявленную даже к сторонним лицам: «В 1921 г. 70 % петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь».
1 сентября 1921 года по городу были расклеены сообщения о расстреле участников ПБО. И город… содрогнулся. В документе, опубликованном в «Петроградской правде», приводился список казнённых — шестьдесят один человек. О Гумилёве было лишь несколько слов: «Активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров».
В неотредактированной записи академика В. И. Вернадского, сделанной им для себя в сентябре 1942 года, упоминается об этом списке, который произвёл «потрясающее впечатление не только страха, а ненависти и презрения, когда мы его прочли».
…Прошло семьдесят лет. 30 сентября 1991 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР постановила: «…Решение Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года в отношении Гумилёва Николая Степановича отменить и делопроизводством прекратить за отсутствием состава преступления».
Представляется, что основания для приговора имеются в доносах секретных осведомителей ВЧК. Из всего следственного дела по Таганцевскому заговору исследователям доступно лишь три тома (!), а двести пятьдесят по-прежнему закрыты.
Гумилёв погиб в тридцать пять лет, в самом расцвете творческих сил, накануне своих главных свершений. Анна Ахматова не зря называла бывшего мужа «пророком» — тот даже предсказал собственную казнь в стихотворении «Заблудившийся трамвай» (1921 г.).
В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими,
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
Надо сказать, это одно из любимейших стихотворений самого Гумилёва. Впервые здесь его герой не победитель, не философ, а просто человек. О чём думал в последние часы жизни Николай Степанович, никто так и не узнает. Но слова Поэта накануне казни известны: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилёв».
«Знаете, шикарно умер»
Символ Серебряного века, основатель акмеизма и создатель «Цеха поэтов», путешественник, доброволец Первой Мировой войны, служивший в уланском и гусарском полках, кавалер двух Георгиевских крестов, — Гумилёв принял свою смерть достойно. И погиб, как герой собственных баллад. Даже палачи были поражены его хладнокровием.
Работник ЧК Дзержибашев (его самого расстреляли в 1924 году) открыто восхищался мужеством Поэта на допросах. А тайный осведомитель ЧК, поэт-футурист и кокаинист Сергей Бобров однажды рассказал Георгию Иванову о последних минутах жизни Гумилёва: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят из особого отдела произвёл впечатление… Мало кто так умирает…»
Почему его гибель так потрясла российское общество, уже заледеневшее от ужасов Красного террора? Нам трудно это понять, почувствовать, но для современников расстрел Гумилёва был равнозначен казни Пушкина.
После общественного чтения кощунственной поэмы «Двенадцать» женой Блока Л. Менделеевой слушатели освистали её. Очередь выступать была самого Блока, но тот с трясущимися губами всё повторял: «Я не пойду, я не пойду». К нему подошёл Гумилёв: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не писали» — и вышел вместо него на эстраду.
Он тихо смотрел на бушующий зал своими серо-голубыми очами. Так, возможно, он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа наготове своё верное нарезное ружьё. И когда зал начал утихать, стал читать свои стихи, и такая была исходящая от них волшебная сила, что чтение сопровождалось бурными аплодисментами. А позже умиротворенный зал согласился слушать и Александра Блока.
…В Казанском соборе была заказана служба: «Помяни, Господи, душу убиенного раба Твоего Николая». Несколькими днями позже была проведена ещё одна панихида в популярной в народе Спасской часовне Гуслицкого монастыря, которая находилась на Невском проспекте. И если друзья и почитатели не могли заполнить кафедрального собора, то часовня была заполнена до отказа.
Мать Гумилёва так и не поверила в гибель сына. До последних дней жизни она спасительно верила, что он ускользнул из рук чекистов и уехал на Мадагаскар.
В день ареста Поэт провёл свой последний вечер литературного кружка. Был оживлён, в чудесном настроении. Засиделся допоздна и возвращался домой около двух часов ночи, сопровождаемый молодыми людьми. Около дома и в квартире Гумилёва ждала чекистская засада.
В тюрьму он взял с собою Евангелие и Гомера… Свою судьбу он принял 24-го или 25-го августа под Петроградом.
Всех приговорённых к смерти отвозили из Дома предварительного заключения на Гороховую. Там, в ЧК, их сковывали попарно, сажали в грузовик и доставляли на вокзал Ириновской железной дороги и далее — до станции Бернгардовка. Потом отводили к месту расстрела в Ковалевском лесу рядом с Ржевским полигоном, у изгиба реки Лубья. Сохранились развалины бывшего порохового склада-накопителя. Сюда приводили смертников и прежде, чем приводить приговор в исполнение, заставляли раздеваться. Одежда-то пригодится другим!
Палачи сделали всё, чтобы скрыть от народа даже место последнего земного приюта Гумилёва, но они не смогли уничтожить память о нём.
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград…
И горит на рдяном диске
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
А у нас на утлой лодке
Только синие решётки
Перекрещенных штыков.
Где лобзавший руку дамам
Низко кланяется хамам —
Видно, жребий наш таков.
Я не трушу, я спокоен,
Я — поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным —
Знаю, сгустком крови чёрным
За свободу я плачу.
Но за стих и за отвагу,
За сонеты и за шпагу —
Знаю — город гордый мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезёт меня домой.
Но чьи это строки? Николая Степановича? Кто-то уверен, что да. Кто-то считает, что это стихи гумилёвского знакомого и военного моряка Сергея Колбасьева, расстрелянного в годы Большого террора. Впрочем, дела это не меняет. Ничуть.
Долгие годы Гумилёва пытались представить этакой досадной жертвой обстоятельств, нежели идейным противником большевизма, — так было удобнее во всех отношениях. Нет, Гумилёв этого не заслуживает. Свой крестный путь он прошёл до конца с гордо поднятой головой боевого офицера и Поэта Россiи.