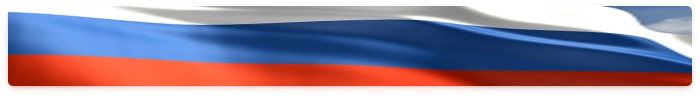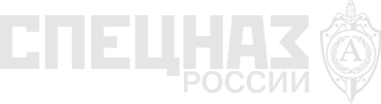РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
БИТВА ЗА МОСКВУ. 1917

ПЕРВЫЙ АКТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №№ 11-12, 2017 Г., № 1, 2018 Г.
Сто лет назад в Москве шли ожесточенные бои между левыми радикалами, сторонниками вооруженного переворота в Петрограде, с одной стороны, и горсткой офицеров с юнкерами, «ударниками», добровольцами и гимназистами — с другой.
«ПРЕДАТЕЛЬ! ИЗМЕННИК!»
С 30 октября по 2 ноября бои в Москве продолжались с переменным успехом, потери несли обе стороны. Профессор Юрий Готье с ужасом утверждал: «Петроград в русскую революцию не переживал того, что переживаем мы: когда Москву шесть дней обстреливают русские пушки!»
Выступление юнкеров и добровольцев было заведомо обречено — власть бездарного Временного правительства Керенского, открывшего в феврале семнадцатого ящик Пандоры, рассыпалась, как карточный домик, сам же «калиф на час» позорно бежал из Петрограда. Так что военной помощи ждать было уже неоткуда. И тем ни менее в Москве продолжались бои.
Леонид Красин, соратник Ульянова-Ленина и будущий нарком внешней торговли, в то время довольно скептически относившийся к большевикам, писал жене за границу: «Многие очень богатые люди, пережив в Петрограде в октябре большевистское восстание и бои под Пулковом и Гатчиной, выехали «для спокойствия» в Москву, где очутились прямо как в аду («Метрополь» и Национальная гостиница обстреливались артиллерией) и прожили три дня в нетопленом подвале, без воды и без малейших удобств».
Жители центра города, напуганные и изголодавшиеся, и вынужденные прятаться от огня, стали впадать в отчаяние. «31 октября. Артиллерия бьет и бьет по телефонной станции, Городской Думе, «Метрополю», жилым кварталам — с Пресни, Кудринской площади, Замоскворечья, — констатирует М. И. Вострышев («Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись»). — Весь день с колоколен центра Москвы стреляют по засевшим в Кремле и уже истратившим последние патроны юнкерам».
31 октября Военно-революционный комитет потребовал от Комитета общественной безопасности безусловной сдачи под угрозой артиллерийского обстрела здания городской Думы на Воскресенской площади. В ночь на 1 ноября по приказу ВРК был открыт огонь. Юнкера и депутаты были вынуждены бежать под защиту Кремля и в здание Исторического музея…
В Думе остались только офицеры ударного батальона и часть студентов-добровольцев. Одновременно революционные части попытались выбить офицеров и юнкеров из театра «Унион», но понесли большие потери. Зато заняли «Метрополь» и Красную площадь, установили орудия напротив Боровицких ворот. Впрочем, штурм Кремля провалился, было убито около тридцати человек.
Чтобы отомстить «сволочам», красногвардейцы на площади перед «Метрополем» устраивали показательные расправы над ранеными юнкерами, захваченными в здании Думы. Юнкеров пытались спасать сестры милосердия и прохожие, но им пригрозили: будем убивать каждого, кто попытается вмешаться.
…Утром 1 ноября Кремль оставался практически единственным островком сопротивления. А на следующий день, в девять часов вечера, отряды юнкеров, кадетов и студентов получили предательский приказ командующего Московским военным округом полковника Рябцева «сложить оружие». Они покинули крепость, не имея возможности противостоять превосходящим силам.
2 ноября делегация КОБа направилась в ВРК для переговоров. ВРК согласился отпустить на свободу всех юнкеров, офицеров и студентов при условии сдачи оружия, что вызвало сильнейшее недовольство среди Красной гвардии: «Освобождая юнкеров от ареста, Военно-революционный комитет дает им возможность снова восстать против народа. Мы требуем, чтобы все арестованные юнкера и прочая буржуазная сволочь были преданы властному революционному суду» (из коллективного письма, опубликованного в газете «Социал-демократ» № 200 от 4 ноября 1917 года).
Сергей Эфрон вспоминал: «Наконец-то появился командующий войсками полковник Рябцев. В небольшой комнате Александровского училища, окруженный тесным кольцом возбужденных офицеров, сидит грузный полковник в расстегнутой шинели. Верно, и раздеться ему не дали, обступили… Вопросы сыплются один за другим и один другого резче… Чувствую, как бешено натянута струна — вот-вот оборвется. Десятки горящих глаз впились в полковника. Он сидит, опустив глаза, с лицом словно маска — ни одна черта не дрогнет.
— Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большевиков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня — кровь уже льется.
— А не полагаете ли вы, господин полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? — раздается все тот же сдавленный гневом голос.
— Вы движимы чувством — я руководствуюсь рассудком. Мгновение тишины, которая прерывается исступленным криком офицера с исказившимся от бешенства лицом:
— Предатель! Изменник! Пустите меня! Я пущу ему пулю в лоб! — Он старается прорваться вперед с револьвером в руке. Лицо Рябцева передергивается.
— Что ж, стреляйте! Смерти ли нам с вами бояться?..»
Согласно соглашению, заключенному Рябцевым с ВРК, всем юнкерам гарантировалась «свобода и безопасность», а офицерам сохранение оружия. Но вскоре выяснилось, что это была лишь очередная уловка — на следующее утро юнкера и офицеры, собравшиеся в здании Александровского военного училища, обнаружили, что они полностью окружены. Напротив входа стояла трехдюймовая пушка, а все окна находились под прицелами пулеметов.

Затем в здании появились комиссары с красными повязками, которые потребовали сдать оружие. У всех офицеров отобрали револьверы. Сергей Эфрон вспоминал впоследствии: «Своего револьвера я не сдаю, а прячу так глубоко, что, верно, и до сих пор лежит ненайденным в недрах Александровского училища…»
Всех присутствующих разоружили, переписали и отпустили по домам. В последующие дни начались аресты, а затем расстрелы участников антибольшевистского сопротивления и «неблагонадежных элементов» — тех, кто «посмел» оказать сопротивление левым радикалам.
А может, если бы все офицеры в Москве встали «под ружье», то переворот не увенчался бы успехом? Вот как об этом с горечью вспоминал прапорщик Сергей Иванович Мамонтов («Походы и кони»): «Нас, конечно, тянуло на Дон, но нужно было преодолеть инерцию. Этому помогли сами большевики, объявив регистрацию офицеров. Те, кто не явится на регистрацию, будут считаться врагами народа, а те, кто явится, будут арестованы. Трудный выбор, как у богатыря на распутье. Регистрация происходила в бывшем Алексеевском военном училище в Лефортове. Мы отправились посмотреть, что будет.
На необъятном поле была громадная толпа. Очередь в восемь рядов тянулась на версту. Люди теснились к воротам Училища, как бараны на заклание. Спорили из-за мест. Говорили, что здесь 56 000 офицеров, и, судя по тому, что я видел, это возможно. И надо сказать, что из этой громадной армии только 700 человек приняли участие в боях в октябре 1917 года. Если бы все явились, то все бы разнесли, и никакой революции не было. Досадно было смотреть на сборище этих трусов. Они-то и попали в Гулаги и на Лубянку. Пусть не жалуются».
Петр Соколов, делегированный в те дни в Москву атаманом Калединым, впоследствии рассказывал: «По условиям договора власть переходила к Советам, Комитет безопасности упразднялся, юнкера сдавали занятые здания, Кремль, Александровское училище, оружие. Всем александровцам, юнкерам и офицерам гарантировалась безопасность и безнаказанность. Многие не поверили большевистскому миру и, когда стемнело, ушли из училища.
Поздним вечером пробирался я отдаленными переулками Новинского бульвара. Кругом не было видно ни души. Изредка шуршал в воздухе снаряд, вспыхивал разрыв, и дробным горохом стучала по железным крышам шрапнель.
Наутро многочисленная толпа окружала Александровское училище. Там шла перепись защитников. Истомленные и бледные, они выходили из училища. И здесь же, на глазах у толпы, красногвардейцы, по указанию каких-то соглядатаев, схватывали и арестовывали выходящих офицеров и юнкеров…

Александровцы проиграли игру. Но проиграл и их бесчестный начальник.
На следующий день уже расклеивалось объявление на улицах Москвы: «Полковнику Рябцеву сдать должность командующего войсками. Солдат А. Муралов назначается командующим войсками Московского военного округа».
Полковник Рябцев при занятии Харькова Добровольческой армией был арестован и застрелен при попытке к бегству» («Последние защитники (Александровские юнкера в Москве 1917 года)»).
«НА ДОН, НА ДОН!»
Обратимся вновь к «Дневнику москвича». В те дни Никита Окунев писал: «В пятницу 3-го ноября Военно-революционный комитет издал «манифест», в котором торжественно объявляет, что «после пятидневного кровавого боя враги народа, поднявшие вооруженную руку против революции, разбиты наголову. Они сдались и обезоружены. Ценою крови мужественных борцов — солдат и рабочих — была достигнута победа. В Москве отныне утверждается народная власть — власть Советов р. и с. д.». Манифест кончается патетическими словами: «Слава павшим в великой борьбе! Да будет их дело делом живущих»».
Н. М. Щапов, земляк Никиты Потаповича, добавляет «горстку» подробностей: «Пешеходов много, появились ломовые, открылись магазины, кроме съестных. Вчера было заседание Басманного комитета кадетской партии; решили считаться с властью большевиков и при надобности помогать ей по обеспечению порядка, безопасности, продовольствия… Трамваев, уличного освещения, телефона, полиции нет».
В эти дни газета «Социал-демократ» («которую выпускали люди, никогда не нюхавшие фронтового пороха»), заявила, что «само имя офицера стало слишком ненавистно народу. Необходимо полное уничтожение офицерского звания». А 6-го было обнародовано постановление за подписью прапорщика Крыленко о расформировании всех военных училищ России, как «оплота контрреволюции».
Параллельно победители стали строить «новую жизнь» — без городской Думы, без хлеба. Зато на военном положении, с революционными трибуналами и предварительной цензурой для газет. Однако москвичи не отчаивались и не теряли веры.
«После окончания боев и прихода к власти большевиков жизнь в Москве совсем расстроилась, — вспоминал Андрей Невзоров («4-я Московская школа прапорщиков»). — Водопровод и электричество не действовали, все продукты исчезли, и купить что-либо можно было лишь на «черной бирже». Достать чего-нибудь съедобного стало задачей, павшую от истощения и непосильной работы лошадь, брошенную на Страстной площади, разделывали по частям и уносили домой. Настроение у всех было отчаянное.
И вдруг разнесся слух, что на Кремлевских Никольских воротах случилось чудо. Мне пришлось видеть все это своими глазами. Над воротами была икона Св. Николая Чудотворца, а по бокам его — два ангела с пальмовыми ветвями. Как я писал выше, по этим воротам били из орудий прямой наводкой и стреляли из пулеметов, но в икону не попало ни одной пули, ни одного осколка, оба же ангела были разрушены совершенно, и от них не осталось и следов.
Начали собираться толпы народа. Служились молебны, что было, конечно, не по вкусу властям. Ленин издал декрет, в котором призывал население не верить «сказкам». Место, где были икона и ангелы, завешивается красной материей. Через некоторое время разносится новый слух: красная материя разорвалась пополам и упала на землю.
Новый декрет разъяснял населению, что никакого чуда не было, а материя разорвалась об железный венчик, помещавшийся над иконой, и затем упала на землю. Этим «разъяснениям» народ не поверил, и в один теплый солнечный день от всех московских церквей двинулись к Никольским воротам крестные ходы с духовенством во главе, сопровождаемые толпами народа.
Один за другим подходят они к образу Св. Николая Чудотворца, служатся молебны, и все это потом движется по Тверской улице. Процессия заняла расстояние от Кремля до Садового кольца. Я полагаю, что участвовало в ней не менее 100 тысяч человек.

На стенах Кремля стояла с пулеметами ленинская «гвардия» — латыши. Церемония продолжалась около 3-4 часов, после чего все крестные ходы разошлись по своим церквам. После этого случая властями было приказано поставить высокую деревянную стену, которая закрывала бы Никольские ворота. Часы на Спасской башне, которые так приятно вызванивали «Коль славен», были пробиты снарядом. Что было в Москве дальше, сказать не могу, так как я уехал оттуда, и, думаю, навсегда».
В своих мемуарах «Как полонили Москву», впервые опубликованных в лос-анджелесском журнале «Вестник первопоходника» в мае 1967 года (№ 44), Дмитрий Одарченко, непосредственный участник тех событий, утверждал: «Большевики выпустили из Александровского училища всех — мне, по крайней мере, не известны случаи расстрелов и убийств тогда; но побои и издевательства были. Однако уже на следующий день начались аресты среди участников, а потом и расстрелы. Тогда начали разъезжаться; некоторая часть пробралась на Дон, в Ростов и Новочеркасск и положила начало Добровольческой армии…»
Создатель «Белой гвардии» Москвы полковник Леонид Трескин так вспоминал лихорадочное состояние, овладевшее многими офицерами: «У нас начала работать мысль — что же делать дальше?.. Вести на Дон походным порядком в морозное время без транспорта на такое большое расстояние — это было обрекать людей на гибель, и надо было решить: или продолжать борьбу здесь, или же поодиночке пробираться на Дон…
После совещания с несколькими лицами мы решили поодиночке пробираться на Дон к атаману Каледину и там совместно с донскими казаками продолжать начатую в Москве белую борьбу против красных. Полковник Генштаба Дорофеев раздобыл на дорогу по 250 рублей на каждого…
Не буду описывать подробностей мытарств, какие пришлось встретить на пути к Новочеркасску, куда начали стекаться участники Москвы, где на Барочной улице положили основание Добровольческой армии, которую возглавил генерал Алексеев и с которой проделали Ледяной поход, откуда вернулись лишь немногие счастливцы».
Сергей Эфрон в своих воспоминаниях «Октябрь (1917 год)» вновь переживал эти события: «Ко мне подходит прапорщик Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.
— Ну что, Сережа, на Дон?
— На Дон, — отвечаю я.
Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь. Впереди был Дон».
В Новочеркасск — столицу Области войска Донского — осенью 1917 года со всей России стали собираться военные, не считающие себя бывшими или побежденными и готовые сражаться до конца. Из одной только Москвы туда перебралось более 2000 юнкеров и офицеров, участвовавших в антибольшевистском выступлении.
В ноябре 1917-го на базе Новочеркасского военного училища и Кадетского корпуса была сформирована первая боевая часть Белой Армии — юнкерский батальон. После падения Крыма новочеркасские юнкера и кадеты покинули Россию на последнем корабле, который ушел из Севастопольской гавани 1 ноября 1920 года, в 14 часов 44 минуты.

А дальше — скитания, эмиграция, чужбина… Как писал Александр Куприн: «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру».
БЕЗБОЖНАЯ ТРАДИЦИЯ
11 ноября 1917 года в Храме Христа Спасителя была отслужена общая панихида «по всем убиенным в дни междоусобицы».
В тот же день церковный Поместный Собор обратился к новым правителям России с пронзительным воззванием: «Довольно братской крови! Довольно злобы и мести! Победители, кто бы вы ни были и во имя чего бы ни боролись, не оскверняйте себя пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих».
Но большевики и левые эсеры оставили этот призыв без ответа. Даже погибших в междоусобной бойне москвичей они разделили «по классовому принципу» — на своих и чужих.
ВРК приказал похоронить своих сторонников на Красной Площади без церковного отпевания и молитв. 8 ноября были вырыты две братские могилы — между кремлевской стеной и лежавшими параллельно ей трамвайными рельсами.
Одна могила начиналась от Никольских ворот и тянулась до Сенатской башни, затем небольшой промежуток, и вторая — до Спасских ворот. Накануне похорон, 9-го, газеты опубликовали подробные маршруты траурных процессий одиннадцати городских районов и часы их прибытия на Красную площадь — так была заложена новая «традиция».
Родственникам, которые умоляли выдать тела для христианского погребения, было отказано — но некоторые, отчаянные, несли перед гробами своих погибших иконы.
У кремлевской стены, на которой вывесили красные полотнища «Религия — опиум для народа», была вырыта огромная яма, в которую сложили 238 гробов. Вместо заупокойных молитв звучали революционные песни и марши, сопровождающие первые массовые безбожные похороны в истории Москвы.
«Сегодня опять праздник с музыкой, революционными песнями, процессиями и флагами, — писал Никита Окунев. — Приказано не торговать, не учиться, не работать, а идти на Красную площадь, где вырыты могилы для жертв революции, стоявших на стороне большевиков. По-христиански и по-человечески говорю — упокой их, Господи!
Но душа не лежит к афишированию этого скорбного, но мрачного торжества. Я даже не пошел с утра за народом и провел день в тиши своей конторы за писанием этой роковой повести. Прости меня, Господи, и утешь осиротевших, но не дай торжествовать тем людям, которые сегодня распевали «Мы жертвою пали». Не было надобности в этих жертвах, и мирным путем можно добиться на земле Царствия Божьего. Нужно только быть всем безоружными».
Будущий создатель американской компартии, а тогда журналист Джон Рид, оказавшийся в эпицентре Октябрьского переворота, более «красочно и добросердечно» описал происходящее «со своей стороны»: «Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлевской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор. Здесь уже было несколько человек, в том числе солдат Муралов, избранный на пост московского коменданта, высокий бородатый человек с добродушным взглядом и простым лицом.
Со всех улиц на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел военный оркестр, игравший «Интернационал», и вся толпа стихийно подхватила гимн, медленно и торжественно разлившийся по площади, как морская волна.
С зубцов Кремлевской стены свисали до самой земли огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!».

Резкий ветер пролетал по площади, развевая знамена. Теперь начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдаленнейших районов города; они несли сюда своих мертвых. Можно было видеть, как они идут через ворота под трепещущими знаменами, неся красные, как кровь, гробы. То были грубые ящики из неструганных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди с лицами, залитыми слезами.
За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные… Иные гробы были покрыты золотой или серебряной парчой, или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из неживых, искусственных цветов… Процессия медленно продвигалась к нам…
Теперь через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было несколько и анархистских знамен, черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему… Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия» («Десять дней, которые потрясли мир»).
Со временем на «красном погосте» стали хоронить партийных вождей, видных деятелей коммунистического движения, выдающихся полководцев и известных людей страны. Здесь же, кстати, был погребен в 1932 году Михаил Покровский, историк-марксист, тот самый, что одним из первых ратовал «за решительные действия против Кремлевского гарнизона».
Поместный Собор осудил такое «погребение» — 17 ноября было принято постановление, в котором ясно была выражена точка зрения Церкви: «В преднамеренно совершенном без церковной молитвы погребении под стенами Кремля людей, которые осквернили его святыни, разрушали его храмы и, поднявши знамя братоубийственной войны, возмутили народную совесть, Собор видит явное и сознательное оскорбление церкви и неуважение к святыне».
А через три дня в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот отпевали тех, кто сражался по другую сторону баррикад — офицеров, юнкеров и студентов московских вузов — всего тридцать семь человек, которых не смогли забрать родные.
«ДОБРОЙ НОЧИ ВАМ, РАЗОРВАННЫЕ В КЛОЧЬЯ НА ПОСТУ…»
Такие страшные стихи написала Марина Цветаева в июле 1917 года о юнкерах, убитых, правда, не в Москве, а в Нижнем. Впрочем, эти строки с полным основанием можно отнести и к тем, кто защищал Кремль и Москву в кровавом вихре октября 1917-го от левых радикалов.
«К этому времени большая часть убитых «белогвардейцев» была похоронена родственниками, — писал историк Андрей Кокорев (газета «Кифа» № 10 (228), август 2017 года). — Заботу об оставшихся тридцати семи, среди которых были прапорщики и юнкера… взял на себя Объединенный студенческий комитет.
В своем обращении студенты подчеркивали, что церемония будет скромной, без венков, лент и тем более — флагов и лозунгов. Члены Всероссийского Собора дали свое согласие участвовать в похоронах.
Ненастным утром 13 ноября площадь у Никитских ворот и прилегающие улицы были так заполнены народом, что само собой остановилось трамвайное движение. Под сводами храма мощно звучали хоры — Архангельский, Синодальный и студенческий. В 12 часов из дверей церкви один за другим стали выносить простые, украшенные лишь еловыми ветвями гробы.
Толпа с большим трудом расступалась, и сквозь этот узкий человеческий коридор неспешно двинулись возглавлявшие процессию архиереи. За ними — хор певчих. Над людским морем зазвучали «Вечная память» и «Святый Боже». Гробы с телами товарищей несли студенты и юнкера. Замыкали процессию студенческий хор и оркестр.
Скорбный маршрут пролегал по Тверскому бульвару, затем по Тверской, сквозь невиданное многолюдье. Многие плакали…»
Процедуру отпевания возглавлял митрополит Евлогий (Георгиевский). В своих мемуарах «Путь моей жизни» он писал об этом так: «Накануне, 12 ноября, Патриарх сказал, что в храме Вознесения будут отпевать юнкеров. «Вы бы съездили…» — обратился он ко мне. Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы… Весь храм заставлен ими, только в середине — проход. А в гробах покоятся, — словно срезанные цветы, — молодые, красивые, только что расцветающие жизни: юнкера, студенты… У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты…
Много венков, много цветов… Невиданная, трагическая картина. Я был потрясен… В надгробном «слове» я указал на злую иронию судьбы: молодежь, которая домогалась политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, готова была даже на акты террора, — пала первая жертвой осуществившейся мечты…
Похороны были в ужасную погоду. Ветер, мокрый снег, слякоть… Все прилегающие к церкви улицы были забиты народом. Это были народные похороны. Гробы несли на руках добровольцы из толпы. Большевики в те дни еще не смели вмешиваться в церковную жизнь и не могли запрещать своим противникам изъявлений сочувствия и политических симпатий» (Париж, 1947 год).
Юрий Готье записал тогда в дневнике: «Днем был на панихиде по убитым студентам и даже разревелся; церковь Университета (церковь святой Татианы) была полна молодежи; наш богослов пр. Боголюбский произнес довольно сильную речь, вызвавшую рыдания; в конце он потребовал, чтобы «Вечную память» пели все — это было сильно и величественно.
Весь алтарь Университетской церкви изрешетило пулями, кроме престола; хорошо бы, чтоб это было навсегда оставлено в том же виде во стыд всем потомкам. Сознаюсь, я плакал, потому что «Вечную память» пели не только этим несчастным молодым людям, неведомо за что отдавшим жизнь, а всей несчастной, многострадальной России. То, что я видел, было контрманифестацией красным похоронам горилл 10-го; там была чернь; здесь — цивилизованные русские».
И снова — храм Большого Вознесения… Сергей Эфрон с горечью вспоминал: «Потрескивает воск, склонились стриженые головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших, над всей Россией».

Среди тех, кого отпевали в храме, были студенты Московского университета, «невоенная» московская молодежь, так как на примыкающих к Никитским воротам улицах и переулках, особенно на Большой и Малой Бронной, традиционно проживали именно студенты и учащиеся. Та самая первая «Белая гвардия»… С юнкерами и кадетами они были практически ровесниками.
Вокруг Вознесенской церкви не расходилась многотысячная толпа. Похоронная процессия направилась по Тверскому бульвару к Петроградскому шоссе, ведущему на Братское кладбище героев Первой мировой войны, которое находилось близ Храма Всех Святых в селе Всехсвятском — ныне район метро «Сокол».
…Кладбище было открыто в феврале 1915 года по инициативе Великой княгини и великой подвижницы Елизаветы Фёдоровны — основательницы Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.
К началу 1917 года здесь упокоились уже около 18 тысяч солдат и офицеров Русской императорской армии, а также несколько десятков сестер милосердия и врачей. Летчиков хоронили отдельно — на аллее Авиаторов; на их могилах даже ставили необычные кресты в виде пропеллеров. Здесь же погребали чинов союзных армий и военнопленных.
Братское кладбище, по замыслу его устроителей, должно было стать мемориалом войны 1914-1918 гг., которую в России называли Второй Отечественной, по аналогии с войной против Наполеона в 1812 году.
Предполагалось, что во Всехсвятском со временем возведут фортификационные сооружения, в миниатюре повторяющие укрепления армий, сражавшихся против России. Здесь же планировалось установить артиллерийские орудия, бомбометы, пулеметы, а также развернуть музейную экспозицию, в которой были бы представлены вражеские знамена и прочие трофеи.
…Во всех церквях по пути следования процессии проходили панихиды. Большую часть гробов несли на руках. К вечеру, в темноте, вступили на кладбище: в свете факелов, под снегом и ветром гробы опустили в братскую могилу.
«На Братском кладбище состоялись трогательные похороны по христианскому обряду 37 молодых людей (юнкеров, студентов, сестер милосердия), погибших в неравном бою с большевиками. Говорят и пишут, что их провожала несметная толпа, — писал Никита Окунев («Дневник москвича»). — На могилах говорились речи, из коих речь Н. И. Астрова довела меня до слез. Он сказал что нужно, и, может быть, его слова проймут озверевшие сердца наших настоящих властителей. Но едва ли они удосужатся прочитать описание этих похорон.
Бедные молодые люди! Думали ли они, что сложат свои головушки на Братском военном кладбище от своих же братьев, с которыми, быть может, иные шли рука об руку на настоящем ратном поле против неприятеля. Упокой, Господи, их и пожалей плачущих и скорбящих о них! Погода стоит тоже мятежная. Чего-чего не было за эти дни: и мороз, и снег, и дождь, и снежный ураган, и буря, как летом!..»
Шествие к Всехсвятскому, панихида на Братском кладбище и похороны буквально потрясли москвичей.
«Я БРОСАЛ СЛОВА, КАК КАМНИ!»
Дмитрий Одарченко впоследствии припомнил подробности похорон: «…Погибших юнкеров, студентов, офицеров, гимназистов и кадет хоронили в простых гробах; венки из ели… Знаю, что эти люди боролись во имя светлых, высоких идей, что они первые поняли, что такое большевики и что с ними нужно бороться насмерть; что в душах своих эти люди носили Бога».
Среди очевидцев похорон был и Александр Вертинский, написавший позднее романс «То, что я должен сказать». В конце 1917 года текстовый и нотный варианты песни были опубликованы московским издательством «Прогрессивные новости». В тексте говорилось, что песня посвящена «Их светлой памяти».
О том, кому посвящен этот романс, было вполне единое мнение. Хотя Константин Паустовский, посетивший в 1918 году концерт Вертинского в Киеве, в своих мемуарах предположил, что «он пел о юнкерах, убитых незадолго в селе Борщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды».
Песня была посвящена юнкерам Москвы — им и только им! Об этом в мемуарах писал сам Александр Николаевич: «Вскоре после октябрьских событий я написал песню «То, что я должен сказать». Написана она была под впечатлением смерти московских юнкеров, на похоронах которых я присутствовал».

Существует легенда, что по поводу этой песни, полной сочувствия к врагам большевиков, Вертинского вызывали в ЧК для объяснений. Вертинский тогда сказал: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!» На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим!» И даже если этого не было, то весьма похоже на правду…
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искажённым лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их ёлками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнём голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!
Вскоре Вертинский отправился гастролировать по южным городам России. Есть некое предание о том, что в Одессе с ним встретился белогвардейский генерал Яков Слащёв. Он рассказал Вертинскому, насколько популярна стала его песня: «А ведь с вашей песней… мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было…»
«Последней была песня «То, что я должен сказать», — вспоминал о своем первом концерте в Екатеринославле Александр Вертинский. — Я уже был в ударе… Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику — яростно, сильно и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне… Зал задохнулся, потрясенный и испуганный…

Я думал, что меня разорвут! Зал задрожал от исступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин — все смешалось в один сплошной гул.
Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили…»
В 1930-х годах Александр Вертинский записал песню в Германии на пластинку фирмы «Парлафон». Несмотря на то, что она была написана в начале XX века, тем не менее, сохраняет актуальность до нынешнего дня.
Романс вернулся к нам в годы «перестройки» в исполнении Бориса Гребенщикова — в либерально-демократических кругах он ассоциировался с войной, которую Советский Союз десять лет вел в Афганистане. А 20 февраля 2014 года БГ исполнил его на Весеннем концерте в Смоленске, посвятив погибшим в Киеве: «Сегодня странный концерт. Все время меня не оставляет мысль, что в эту самую минуту, когда мы здесь поем, в Киеве, совсем недалеко от нас, одни люди убивают других».
Потом, правда, выяснится, что и боевиков Майдана, и бойцов «Беркута» в роковой день 22 февраля, когда кризис достиг своей кульминации, из окон гостиницы «Украины» убивали снайперы, подряженные на это подлое дело заправилами госпереворота. Подобно тому, как это было во время расстрела в Кремле в драматические дни октября семнадцатого — когда русские левые радикалы les Enrages («бешеные», подобно фракции времен французской революции) садили очередями и в сдавшихся революционных солдат, и в юнкеров.
«МЫ ПОГИБЛИ ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ»
Осенью 1918 года Братское кладбище стало полигоном московской ЧК. Здесь приводились «в исполнение» смертные приговоры офицерам — участникам подпольной организации «Союз защиты Родины и Свободы», возглавлявшейся Борисом Савинковым — знаменитым эсером и террористом, ставшим комиссаром Временного правительства, а затем яростным противником большевиков и советской власти.
Здесь же в годы «Красного террора», провозглашенного постановлением Совета народных комиссаров 5 сентября 1918 года, расстреливали заложников из «представителей имущих классов»: офицеров, чиновников, дворян, священников, простых обывателей.
Осенью того же года в районе Братского кладбища были расстреляны епископ Ефрем (Кузнецов), протоиерей Иоанн Восторгов, министры внутренних дел Николай Маклаков и Алексей Хвостов, председатель Государственного Совета Иван Щегловитов и сенатор Степан Белецкий.
По просьбе Иоанна Восторгова палачи разрешили осужденным перед смертью помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, горячо молились, после чего подходили под благословение владыки Ефрема и отца Иоанна — оба канонизированы в наше время в Соборе святых новомучеников и исповедников Российских.
Назвать точное число жертв расстрелов на Братском кладбище и в его окрестностях не представляется возможным, так как достоверной статистики не существует. Можно только молиться за тех, кто принял смерть тогда и кто погиб там в годы гражданской войны, — в целом.
В 1925 году кладбище было закрыто для захоронений. Заботу о ненужных новой власти могилах взяло на себя общество «Старая Москва». Но, несмотря на все усилия неравнодушной общественности, территория кладбища неуклонно уменьшалась, а в 1930-е годы — и вовсе была ликвидирована.
На его территории велись работы по строительству метрополитена, были уничтожены почти все надгробия и разбит парк — «в связи с необходимостью создания мест для гуляния и отдыха трудящихся». Родственникам было предложено произвести перезахоронение, но не все могли это сделать. Тогда же закрыли кладбищенский храм (в 1959 году на его месте построили кинотеатр «Ленинград»).

Большую часть земли Братского кладбища отвели под «сверхударное строительство» — в итоге был создан жилой массив городского комплекса, получивший название «Песчаные улицы». С конца 1980-х годов общественность и городские власти стали проявлять интерес к судьбе исторического некрополя.
В 1998 году была построена часовня Во Имя Преображения Господня. 1 августа 2004 года в парке торжественно открыли мемориальный комплекс, где установлено десять гранитных памятных знаков и три креста.
На памятном кресте юнкерам — короткая («такая же короткая, как их жизнь») надпись: «Мы погибли за нашу и вашу свободу».
«В сущности своей Московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев, — напомню слова М. Горького. — С одной стороны — юноши красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчета — кого ради они идут на смерть, чего ради убивают? С другой — ничтожная количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющих свой «долг», как это было внушено им» (газета «Новая Жизнь»).
Нет, Алексей Максимович, не «внушенный» им кем-то долг, а свой собственный, от души. Юнкера и кадеты, студенты и гимназисты. Добровольцы. Искренние, а не записные патриоты Россiи, пущенной под откос в феврале семнадцатого года. Народная память о них оказалась сильнее насильственного исторического забвения.
 ЕГОРОВА Ольга Юрьевна, родилась в Калуге.
ЕГОРОВА Ольга Юрьевна, родилась в Калуге.
Выпускница факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1997 году была ответственным секретарём журнала «Профи».
На протяжении шести лет, с 1998‑го по 2003 год и с 2010-го по настоящее время является редактором отдела культуры в газете «Спецназ России». Опубликовала большой цикл статей, посвящённых женщинам в истории отечественной разведки. Автор книги «Золото Зарафшана».
"Серебряный" лауреат Всероссийского конкурса "Журналисты против террора" (2015 год).
Площадки газеты "Спецназ России" и журнала "Разведчик" в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/specnazalpha
Фейсбук: https://www.facebook.com/AlphaSpecnaz/
Твиттер: https://twitter.com/alphaspecnaz
Инстаграм: https://www.instagram.com/specnazrossii/
Одноклассники: https://ok.ru/group/55431337410586
Телеграм: https://t.me/specnazAlpha
Свыше 150 000 подписчиков. Присоединяйтесь к нам, друзья!