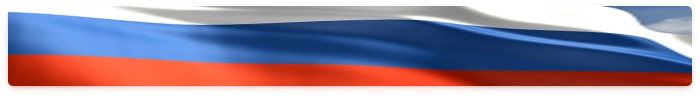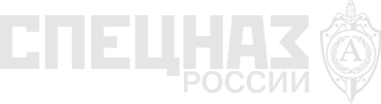РУБРИКИ
- Главная тема
- «Альфа»-Инфо
- Наша Память
- Как это было
- Политика
- Человек эпохи
- Интервью
- Аналитика
- История
- Заграница
- Журнал «Разведчикъ»
- Антитеррор
- Репортаж
- Расследование
- Содружество
- Имею право!
- Критика
- Спорт
НОВОСТИ
БЛОГИ
Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ
АРХИВ НОМЕРОВ
НЕКРОПАТРИОТИЗМ
Главный редактор «Завтра» Александр Проханов перешел в своей риторической прозе тот Рубикон, перед которым ему следовало бы остановиться. Или хотя бы его обойти. Провокативность текстов Проханова давно известна. Но есть вещи, на которые даже самый закоренелый провокатор не смеет поднимать руку. А если поднимает, то ставит под сомнение свою позицию, во имя которой провокации совершаются.
Если христианин в качестве провокации похулит Христа или Богородицу, то это будет означать, что он не провокатор, а нехристь. Провокатор, который глумится над своей собственной верой? есть не «провокатор» а глумливый хулитель, и никакие эстетические критерии, никакое право творца на свободу высказывания к нему уже не применимы. Особенно когда творец является публичным политиком и пишет политические передовицы.Александру Проханову принадлежит написанный в мае этого года текст: «Русская Победа — это религия, не противоречащая Христу, «хлеб насущный» для всех будущих русских поколений.Герои Великой Отечественной, безвестные и канонизированные — Зоя Космодемьянская и партизаны Белоруссии, Талалихин и пехотинец Вязьмы, панфиловцы и артиллеристы Лобни, замерзший Карбышев и сгоревший танкист — суть святые, отдавшие жизни за Родину и Победу, и место их — в Русском Раю вместе с сонмом святых».
Религия автора этого текста заявлена предельно ясно и никаких перетолкований, казалось бы, не допускает. В этой религии Зоя Космодемьянская занимает место, аналогичное христианским великомученицам. Сама она, кстати, была внучкой священника, новомученика о. Петра Космодемьянского, умученного богоборцами в августе 1918 г.
И вот, в передовице, посвященной кровавым терактам, сотрясающим Россию, Проханов употребляет свою религию Победы в целях моральной легитимизации чеченского террора против русского народа: «Красавица-чеченка бесстрашно идет умирать, демонстрируя «дух» религиозной веры, священной мести, народной жертвенности, каким в советское время обладали Зоя Космодемьянская, Любовь Шевцова, Лиза Чайкина». Выстроено страшное уравнение: те, кто идут взрывать православных русских и осетин, те, кто захватывает в заложники дошкольников и грудничков и готовы расстреливать их по пятьдесят человек за одного убитого подельника - оказываются для Проханова равны тем, кого он сам поставил на высоты своей религии, сам объявил символом чистоты и святости, жертвенности и подвига за Родину. Для любого русского, который, может быть, и не делает из Победы религиозного культа, но почитает ее как ярчайшее и высочайшее событие нашей национальной истории, слова Проханова прозвучат не иначе как кощунство. Все равно как человек подошел к Могиле Неизвестного солдата и смачно харкнул прямо в огонь.
Для людей старшего поколения, воспитанных на уважении к Победе и на рассказах о ней, заявления Проханова звучат тем более возмутительно, что они не только оскорбительны, но и лживы. Можно ли всерьез сравнивать одурманенных «шахидок», которые паникуют, увидев милицию у входа в метро, которых взрывают дистанционным управлением их подельники, которые не способны даже добраться до солдат и отыгрываются на зрителях театра, участниках концерта, а теперь уже и на пришедших в первый раз в первый класс детишках - и героинь-комсомолок, которые шли на смерть с поднятой головой, хладнокровно и расчетливо, которые убивали настоящего врага, оружием на оружие, ударом на удар?
Духовная, метафизическая, сущностная разница между «шахидками» и русскими героинями Великой Отечественной нигде так не видна, как в момент, когда героиня (подлинная или мнимая) попадает в руки врагов. Вспомним циничную, трусливую и похотливую Мужахоеву, которая строила из себя невинную девочку, «никого не хотела взрывать», а потом, получив приговор в 20 лет, закатила истерику: «Ненавижу, всех русских ненавижу, когда вернусь – всех взорву». Что, впрочем, не помешало ей подать апелляцию в Верховный Суд на пересмотр приговора. И попытаемся представить себе легендарную «Таню» умоляющей о пощаде или подающей апелляции Гитлеру? Вспомним очерк Петра Лидова, из которого народ впервые узнал о партизанке «Тане», подлинное имя которой – Зоя - стало вскоре известным всему миру:
…Под петлей, спущенной с перекладины, были поставлены один на другой два ящика. Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака» — немцы любят фотографировать казни и порки. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать.
Татьяна воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:
— Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!
Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:
— Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье - умереть за свой народ...
Офицер снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул офицеру:
— Абер дох шнеллер!
Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:
— Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!
Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись и стояли спиной, чтобы не видеть того, что должно было сейчас произойти.
Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:
— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!
Существует ли большая противоположность, чем эта отважная, благородная, полная жизни, любви и подлинной смелости девушка, не страшащаяся мучений, способная ободрять других даже в смертный свой час - и, с другой стороны, безликая, лишенная ума «шахидка», в лучшем случае готовая пожертвовать своим здешним телом ради райского тела «гурии» и превращающаяся, едва с нее сдерут «пояс», в истеричное и трусливое животное?
Зоя Космодемьянская и Любовь Шевцова соотносятся с Заремой Мужихоевой или с какой-нибудь полумифической Розой Нагаевой как свет и тень, как «да» и «нет», как жизнь и смерть. Героини, несущие жизнь, оживляющие мир в минуты его мертвения. И, с другой стороны - черные провалы в бытии, засасывающие и превращающие в груду бесформенного мяса все, что оказалось рядом. Живые даже в смерти - и мертвые задолго до окончания бессмысленной жизни.
Александр Проханов долго пытался воспевать первых, превратив их в союзниц, единомышленниц и индульгенцию для любых своих слов. Но в итоге выбрал вторых. Правда, и тут попытался немного спекульнуть «символическим капиталом» и заявить, что первые и вторые суть одно и то же. Насколько топорной вышла подделка – легко судить. Возможно, она вызовет восторги у поросли недозрелых поклонников Лимонова. Но вот ветераны (и просто не задурманенные «оппозиционностью-во-что-бы-то-ни-стало», оппозиционностью фразы) отвернутся от Проханова после этого надругательства над святыней.
Впрочем, неужели этой пляски на трупах нельзя было ожидать? И дело тут не только в торговле собой - и с Березовским, и с Ходорковским. Дело в специфическом аромате, который всегда исходил от прохановских текстов. В его завороженности смертью и разложением.
Проханова и в его лучшие годы занимало в основном созерцание разложения, распада и смерти Империи. Он типичный декадент. О жизни Империи и ее процветании он писать не мог и не смог бы. Проханов начинается там, где жизнь советского общества кончается, превращаясь в мучительное умирание.
«Завтра» с самого начала отличалась минимумом реального позитивного содержания, зато максимумом «критического реализма» и «физиологической прозы». Заголовки, содержание, дизайн газеты были не столько радикальными, сколько нарочито катастрофическими, «готическими», если подбирать сравнения из современной молодежной субкультуры. Автора этих строк, десять лет назад бывшего умеренно либеральным православным юнцом, поражал стойкий запах смерти, исходивший тогда от страниц прохановской газеты. И понадобилось определенное время, чтобы перестать отождествлять этот запах с настоящим русским национальным и имперским патриотизмом.
Однако этому некропатриотизму 1990-х было оправдание в реальности тех лет, которая вся была проникнута этим духом распада, не оставлявшим надежды ни на что и заставлявшим видеть единственное утешение в созерцании разлагающегося трупа. Быть живым в 1990-х порядочному человеку было просто неприлично, тогда можно было только умирать. И Проханов был совершенно уместен. Более того, на фоне некрократической действительности он смотрелся живо и задорно.
2000-е оказались для некропатриотизма временем мучительным и критическим. Два корня разъехались в разные стороны. Все, что связано в России с патриотическим, с национальным, с русским началом, меньше всего пахнет смертью. Напротив, это единственное живое, что есть сегодня в России. И сама страна мучительно и судорожно цепляется за жизнь, пытается заставить себя жить тогда, когда все вокруг заклинают: «Умри, проклятущая». Картины смерти несколько поднадоели. Приходится исхитряться, чтобы подать их свежо и оригинально, чтобы они впечатляли. Всё русское, посреди ужаса и мерзости запустения, вдруг зажило жизнью. И оказалось: жизнь настолько отвратительна для некропатриота, что он видит ее только как одну большую и пахучую Ксюшу Собчак.
Все живое вызывает у Проханова немедленное подозрение, что это еще одна форма монстра Ксюши. Героическим и русским Проханов по-прежнему считает только мертвое. А всё живое для него — «ненастоящее» и виноватое. Виноватое потому, что не умерло в мучениях. С себя самого Проханов, впрочем, не снимает вины. Он и сам перед собой виноват за то, что не умер, что остался еще изображать из себя «последнего солдата империи» и так увлекся этим делом, что прожил много дольше полагающегося последнему солдату срока. И «шахидки» остаются последним спасательным кругом для этой некрократической утопии — именно они её последняя гвардия и цитадель. Они несут смерть, они сами и есть смерть. Смерть, окрашенная внешним флером героизма. Смерть, не дающая сбыться русской жизни.
Характерной репликой на эстетические переживания Проханова является их интеллектуализированная версия того же самого некропатриотизма у известного литературного критика Льва Пирогова (приложившего, кстати, в свое время значительные усилия для того, чтобы очередная «некроутопия» Проханова – «Господин Гексоген» - вошла в моду у бомонда, а сам Проханов стал признанным литтусовкой автором). Для него все живые русские являются «дезертирами вечности» (так называется его статья в интернет-альманахе «Топос»). Там, где Проханов любуется чернобровыми гуриями, несущими смерть, Пирогов научает, как жить и как эту несомую шахидками смерть принимать: «Мы ведь не случайно такие — нас ведь умирать тут оставили. Православие — не форпост истинной веры и не оплот даже, а скорее отряд прикрытия. Остальные (кто остальные? ну пускай предки) уплыли за океан, а нам тут умереть суждено, чтобы эти не догнали, не потопили тех. Мы смертники». А по сему случаю необходимы исключительно «кротость, терпение и спокойное осознание своей обречённости».
В общем – в белую рубаху и в гроб. Стиль не православных, а русских сектантов, готовившихся к приходу антихриста, но так его и не дождавшихся. Не дождавшихся как раз потому, что во время Армагеддона нельзя в гробу лежать — надо драться, рубиться на поле Последней Битвы. В крови, в грязи, в отчаянии, в крестном истощении надежды, но все-таки в надежде на жизнь вечную.
Пирогов с игровым пафосом говорит то, что Проханов чувствует, но выразить в формулах передовицы так и не решается: «Не смейте жить, сволочи. Сдохните красиво. Всю картину портите».
«Умирать нас тут оставили», значит…
Мы должны сказать некропатриотам – это не нас, это вас умирать тут оставили. Вот и умирайте. Нас оставили тут жить. Жить и молиться: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Разница между христианином, тем христианином, которым является настоящий русский (даже когда душа его ослеплена как побитые камнями фары) и духовным шатуном в том и состоит, что шатун очень любит поиграть со смертушкой, она ему родная, она своя для него - она все убивает, и он хотел бы убивать все живое вокруг с ее помощью. Он смертопоклонник по сути.
Православный же живет, чтобы жить. Временная жизнь для него - монета, на которую он покупает жизнь вечную. И смерть - это не момент, самоценный сам по себе. Это момент покупки «жемчужины». И в этот момент должно быть чем расплатиться. Русская жизнь была, есть и будет устроена, как подготовка к этой расплате.
«Убогому» расплатиться часто бывает нечем. Человеку самому по себе вообще редко бывает чем расплатиться. Большинство же сбивается вместе, в артель, чтобы расплачиваться друг за друга, чтобы не погибнуть по одиночке и спастись, если можно, сообща, «заплатить» из созданного общим трудом капитала. Так монастырь общежительный устроен, так Церковь устроена. Русь - та, которая настоящая, та, которая Святая - устроена так же.
Без понимания артельной природы Руси, ее идеи совместного существования ради Жизни вечной, взаимной готовности положить живот свой за други своя, положить свою жизнь ради общей жизни, временную ради вечной, не понять ничего русского. Русская концепция смерти, - та, которая христианская, - прямо противоположна некропатриотизму. Для нее смерть — это сбывание жизни, ее высшая точка. Это пламя мученического костра. Это мирное, торжественное отшествие монаха. Это подвиг героя, полагающего свою жизнь за Отечество на поле битвы. Но здесь нет и не может быть места любованию распадом, разлагающимися трупами, нет места смирению перед злом. И тем более - одухотворению зла. Нет места смерти ради смерти, несомой гуриями террора, нет места унылому и безрадостному квази-смирению перед гибелью.
Живая Россия, не питающаяся трупным ядом, но выводящая его из национального организма - это страна, которая способна дать и преподобного Сергия, и мученика Петра Космодемьянского, и его внучку-героиню Зою.
Мертвая Россия, Россия столь «дорогая» для некропатриотов, неспособна и бессильна дать человеку такую временную жизнь, за которую он купил бы жизнь вечную.
Россия, завороженная собственным распадом - это труп.
А где будет труп, там соберутся шахидки.